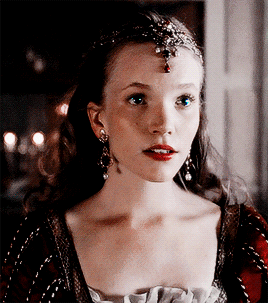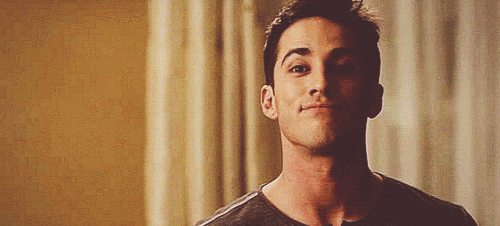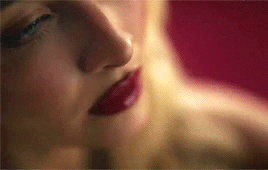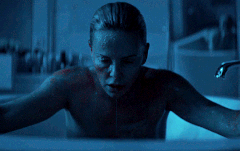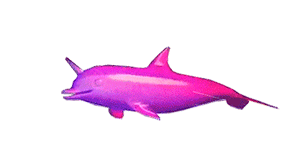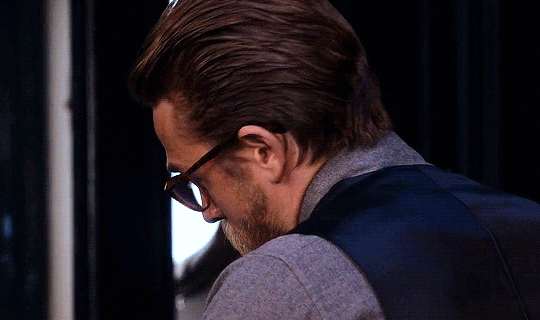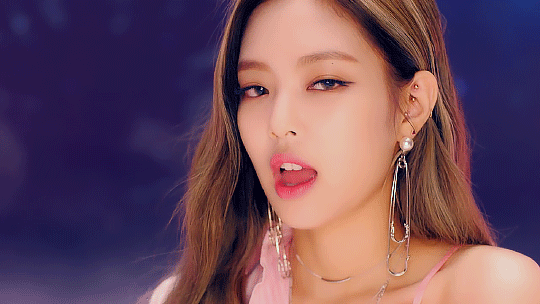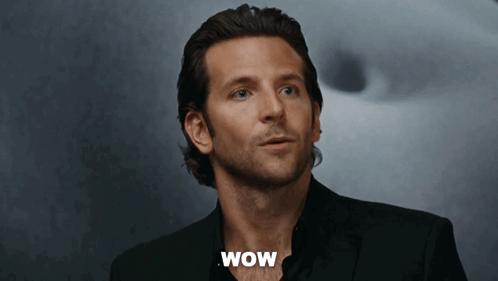Он привык к изнуряющей жаре быстрее остальных, его лицо загорело и обветрилось, но, казалось, никогда не обгорало, словно жесткое, безжалостное светило никогда не выпускало когти, дотягиваясь до него, а в нежной печали касалось впалых, обветренных щек. Темно русые волосы выгорели почти до белого золота под непрестанными ласками пылающего солнца. Некогда глубокое, зеленое сукно его доломана выгорело и запылилось, будто навсегда впитав крупицы вездесущего песка, служившего могильным саваном культуре, чье очарование некогда походило на сильный яд, навсегда менявший любого, кто к нему прикоснется.
Его звали Андре Арман. Часто просто Сокол. За его меткость и непогрешимую решительность. Он был родом из Парижа. Но никогда не принадлежал ему — ни городу, ни стране.
Париж оставался в тающей ряби памяти влажными брусчатыми мостовыми, пахнущими печеным хлебом и угрюмым камнем после дождя. Липовый цвет, влажная, робкая духота июльских аллей. Аромат теплого молока и утреннего кофе, вьющийся над булочной у Сен-Сюльпис. Сладковатый дым трубки, которой отец делился с друзьями, пока дети играли у фонтана. Все это будто бы намеренно вытесняло из памяти вонь канав, скисшего молока у лавок и гнилых рыбьих потрохов с рынка на Рю Муфтар.
Словно так было проще помнить и пытаться любить то, что кто-то невидимой рукой, чудом рождения заставил называть домом.
Египет же обволакивал сердце противоестественным чувством принадлежности. Он дышал иначе. Ветер приносил терпкий запах фиников, земли, раскаленной до треска, и жареного зерна с базара. Шкура лошадей, взмыленная под седлами, пахла солью и солнцем. Смолистый дым древесного угля в тени палатки. Иногда — легкое дыхание мирры или сандала, когда проходили мимо святилищ. И аромат металла на пальцах — пыльных, потных, обвитых бинтами и судьбой.
Его ухо царапали завывания муллы и местная россыпь диалектов, но здесь он чувствовал себя на своем месте. Может быть, в войне, может быть, в восточном куске выжженой солнцем и забытой богом земле. Андре не знал. Он старался не думать об этом, когда у костра приводил в порядок свой карабин. И все же. Египет. Он тянул к Андре невидимые руки. Но не тот, что был на поверхности. Если Арман кому-нибудь это скажет, ему ответят, что несчастный, должно быть, перегрелся на солнце.
Он быстро и ловко сладил с местными лошадьми, на которых пришлось пересаживаться почти сразу. Ничтожно малое количество их французских скакунов пережили тяжелый путь до страны песков. Его чистокровный Гризай пал после первого перехода.
Соловый Рафаль, ставший ему необходимой заменой, был плохо выезжанным берберским жеребцом. Низкорослый, компактный, с тяжелой головой и грубым прямым профилем, он тем не менее был совкий и проворный, как пустынная змея. Андре удалось переучить его на мягкую руку, на контроль от тела, помогая забыть о дергающих рот руках и колотящих пятках. Конь был умен, зол и горяч, как песок под ногами, как солнце в небесах, не видавших росчерков облаков с тех пор, как Арман оказался в землях Египта.
Отряд шассеров двигался тихо и незаметно, Андре их возглавлял. Его повышение было недавним и быстрым. На этот раз за смелость и личную храбрость при сопровождении генерала Ланна. Удивительного в этом было мало. Здесь все происходило быстро. Угасали жизни, как ювелирно срубленный фитиль свечи, и вспыхивали карьерные зведы.
Война срывала с людей маски, открывая личину, вспарывая швы образования, распуская нити потраченных годов, смывая статусы и звания, принесенные с родины, и не давала вторых шансов.
Их путь лежал к храму Мут. Отряд инженерных войск из армии Клебера занял заброшенное святилище, превратив во временный аванпост и склад, позволяя французам лучше закрепиться на территориях. Последние сведения от них были три дня назад. Отряду Андре полагалось проверить положение дел.
Арман крепко сжимал повод между пальцев, отпуская Рафалю ровно столько свободы, чтобы не превращать его тяжкий быт боевой лошади в ненужное испытание горячих нервов и выносливости. Гребень бархана нависал застывшей волной, укрывая от ненужных глаз, копыта коней заставляли песок рассыпаться, погружались в него на спусках по пясти, поднимая завитки нанесенной пыли. Их тут же уносил ветер, не прекращавший своей песни, казалось, никогда.
Позже, когда солнце было в зените, а они подобрались достаточно близко, Арман выслал вперед двух смотровых. Но он уже знал, что их отряд опаздывает. Потому что ветер стих. Рафаль храпел драконом, раздувая ноздри до ала, в воздухе ощущался тонкий, едва уловимый человеческим сознанием призрак дыма. А сердце колотилось в груди так, словно знало, что его скоро остановят. Что-то вязкое, липкое, холодное, как выдох в затылок. Не дрожь. Не озноб. Не слабость. Это был страх. Тот, о котором говорят — да не до конца понимают.
Его ни с чем не спутаешь. Не голос рацио, призывающий бояться вражеских пуль, не животный страх слабой натуры, который вырывается из-под контроля, как молодая лошадь. Это холодная рука на плече. Она опускается, будто предупреждая. Не чтобы забрать. Пока. И этот холод, пришедший будто бы извне заставлял сердце пропускать удар.
Андре никогда не был трусом и быстро уяснил простое правило жизни и смерти. Если хочешь остаться в объятиях первой, никогда не стоит делать двух вещей: Нельзя считать себя выше Смерти. Недооцени ее — и она возьмет тебя с усмешкой. Дрогни перед ней — и исчезнешь. Смерть не прощает ни гордыни, ни страха. Смерть надо уважать. Потому что здесь — все ее. Земля под сапогом — ее. Пыль песчаных бурь— ее. Жар, мутящий рассудок и истязающий тела — ее. Ветер, несущий крик — тоже ее.
Ведь все они здесь, дети жизни, у Смерти на холодных ладонях. В ее вотчине, на ее территории, в ее власти. На войне все пахнет ею. Все дышит ею. Как только перестанешь уважать смерть, дрогнешь перед ней или задерешь высоко нос, умрешь. Сгинешь.
Андре Арман тем не менее не вписывался в ординарный порядок вещей. Не для смерти, перед которой все равны, но в жизни. Он был пресловутой белой вороной, пусть и самостоятельно извалявшейся в угольной крошке, чтобы не быть заклеванной своими же. Он видел сны. Сны такие, какие мало кто мог себе представить и понять. Яркие, живые, сюрреалистичные, но порой затмевающие собой реальность, стирая границы песчинка за песчинкой. Когда солдаты видели сны о родине и ощущали руки родителей, отчаянно цепляющиеся в их плечи будто дух самой Франции, ждущей их домой, Андре видел золотые колесницы, мчащиеся по барханам, слышал странный язык, который понимал, как родной, наблюдал горящие звезды у себя на ладони и вещи, которые не вписывались ни в какие законы мира. Он видел себя — не в зеркале, а в отражении солнечного блика, в мимолетной тени сокола, в звучании сигнального рога. Там, где другие искали себя в прошлом, он натыкался на себя в будущем, в чем-то древнем и невозможном. Он шел по пустыне — не по этой, египетской, а по вечной. Небо было окрашено в пурпур и золото, как шелка в храме, которые никто из ныне живущих не видел и никогда не увидит. И ветер, казалось, разговаривал с ним сотнями голосов.
Он был ребенком — и его мать была коровой.Тихая, огромная, белая, с глазами, полными боли. Она несла его через черную воду, стебли травы шептали молитвы, потому что все уже было и снова будет.
Он прятался, сжимаясь в узел, и мать пела, убаюкивая его голосом, что был то шепотом листвы, то ревом битвы.
Он был юным — и смеялся, играя со скорпионами. Они не жалили. Они учили. Он давал им имена. Один был Страх, другой — Гнев. Он сжимал их в кулаке и отпускал только тогда, когда понимал, как ими управлять.
Он был мужчиной — и на груди его спала кобра.Она дышала в такт его дыханию, и вся армия стояла за его спиной. Молчаливая, ждущая. Его взгляд мог повергать в бегство. Но тогда он еще не знал, что доброта и боль могут быть страшнее любого оружия.
Он был у Врат, отделяющих живое от мертвого, где Великая Река несет воды вечности, где лодки идут по воздуху, и стражи мертвых слагают приговоры из песка.
Он видел мужчину и каждый раз с готовностью называл его отцом. Просто человек, у которого глаза были слишком добрыми, чтобы принадлежать тому, кто правит. Глаза, прошедшие сквозь ад — и не окаменевшие.
"Я горжусь тобой", — сказал он. -"Но не мсти. Не убивай его."
А он, дрожащий от слов, только сильнее захотел победить. Вернуть. Исправить. Как сын, чья любовь — это война.
Он встретил женщину. Она была не просто любовью — она была причиной, по которой хотелось остаться в этом мире. Смех как самая сладкая мелодия. Глаза, в которых мягко отражался образ самой жизни. Он чувствовал себя целым только рядом с ней. Целым и свободным.
Он видел эти сны сколько себя помнил. Зыбкие и мутные они прояснялись, выкристолизировались, лишались патины, мешавшей видеть. Сейчас, здесь, он видел их гораздо чаще и ярче. Последние несколько дней они приходили каждую ночь, разрывая сон, лишая возможности отдохнуть. И он знал. Откуда-то но знал, эти сны были вестниками неминуемой беды, если только он не сделает что-то. Что он должен был сделать, он не знал. Не представлял даже в самом ярком из видений.
Это питало страх. Тот самый, что приходит извне. Тот, что предупреждает.
Смотровые вернулись. Серьезные лица, подернутые тревогой.
Жак Готье, старший из них отбросил формальности и сразу сообщил: сигнальных флагов не хватает. В остальном тихо.
В голосе смотрового пуд понимания и все же полог надежды. Останки быстрого доклада, занявшего всего пару минут, не оставляли сомнений у Андре: Французов в храме больше нет.
Арман выслушал смотровых. Решение было принято быстро: обойти с запада, срезать через пальмовую рощу и выйти к развалинам севернее храма.
Жара стекала по лошадям каплями, как воск с икон в заброшенной церкви. Никто не говорил. Каждый слышал гул в собственной голове, будто набат.
Они начали атаку тихо. Рог остался нетронутым. Сначала шли рысью. Потом ускорились, и лошади, будто понимая, в чем дело, обозлились. Рвали поводья, прижимали уши и сами были готовы кидаться в бой. Война шелухой сняла с них пугливую природу, превращая в верных собак без страха и с огнем в сердцах. За поворотом показались разрушенные колонны храма.
Первый выстрел был почти случайным. Тут же один из французов выронил ружье — и вскоре упал сам. Следом вылетели стрелы. Один солдат вскрикнул, как будто его звали по имени. Дальше — рев, лязг стали и вспышки смерти. Мамлюки будто выросли из самой земли. Черные силуэты, сверкающие саблями, и все это напоминало не бой, а бойню.
Песок шипел от крови. Кто-то кричал "Назад!", кто-то — "Вперед!". Один мамлюк пролетел мимо на рыжем коне, разрубив Жака пополам. Грудь француза взорвалась, как перезрелый гранат.
Андре и Рафаль возглавляли атаку, были одной тенью: длинной, скачущей, упрямой, будто вырезанной на солнце старым богом войны и неуловимой. Ни пули, ни стрелы не могли их догнать. Сабля — продолжение мысли, лошадь — крылья, дающие свободу. Гул копыт разносился как раскатные удары малых барабанов. Песок ревел, стонал и пылал. Воздух горел железом, криками и порохом в мареве раскаленного дня.
Перед Андре — враг. Мамлюк в синем с узором луны. Глаза его были мертвые. Как вода, в которой кто-то утонул, но никто не заметил. Он встретил его на изломе храма, среди колонн, под образом крылатой богини, как треклятую тень.
Мамлюк ударил первым. Сабля рассекла воздух у самого уха. Андре отклонился, развернулся в седле и выстрелил. Порох ослепил, выстрел был плох. Мамлюк остался. Сабля скользнула по боку лошади. Рафаль лягнул в сторону, но его ответный звериный удар пришелся мимо, врезаясь с гулким стуком в камень колонны. Золотой круп коня окрасился алым. Андре развернул лошадь резко, почти грудью бросая на мамлюка. Их столкновение было коротким — как удар сердца. Андре нырнул под клинок, наотмашь ударил вперед. Мамлюк дернулся, как будто вспомнил что-то важное — и упал. Без звука. Без проклятия.
Тогда, только тогда, Андре понял, что дышит. Что он еще жив. Пока. Бурная кровь смывала страхи и дурные предчувствия.
Позади кто-то звал на помощь. Кто-то молился. Кто-то умирал в тишине.
Арман пришпорил коня.
Он не кричал. Он не отдавал приказов.
Он просто врывался, как ветер в щели шатра, и вырывал людей из жизни. Один — с перерезанным горлом, кровь по шее и вороту. Второй — рассечен от ключицы до бедра.
Третий — вылетел из седла, будто из пращи. Глаза у него еще пытались понять, что случилось, когда тело уже падало, зная ответ.
Храм Мут встречал эти подношения молчанием. Гробовым. Затаенным.
Сокол мчался впереди, как черт на карнавале. Безумный. Красивый. Смертельно быстрый. Рядом умирали, позади бежали. А он шел глубже, туда, где воздух был плотным, как вино, и крик слипался с дыханием.
Мамлюки расписывались кровью за свою неосмотрительность или за столкновение с чужой удачей. Сослуживцы говорили, что Андре всегда везло. Но это было не так. Андре везло только тогда, когда это действительно было необходимостью, когда на чашах весов оказывалась жизнь и смерть храбреца, а в карманах у него не оставалось больше никаких фокусов.
Он не считал время и головы, но в воздухе словно что-то надломилось. Мамлюки перестали сражаться за позиции и стали бороться за свои жизни, бросая посты, спасаясь в лабиринте раздробленного тела Храма, исчезая в пустынном зное.
Еще слышны были крики, еще пролетали мимо всадники и кони, звенел металл, редкие выстрелы громыхали на ветру, когда Арман увидел его. Худой и высокий в синих одеждах, словно он упал птицей с синего неба храмового потолка, будто часть давно забытого мифа. Его единственный видящий глаз был черен, а второй украшало мутное бельмо, пускавшее росчерк уродливого шрама от подбородка до лба. Сабля с резным эфесом и яркий пояс. В тюрбане — багровая лента, паутиной золотились аяты из Корана.
Аль-Сайяф. Не имя и не фамилия. Прозвище, ставшее при жизни более громким, чем вся иная память об этом человеке. Андре знал его по цепочки смертей, что он и его люди оставили за собой. Точкой, поставленной в собственном приговоре, который “Мясник” не слышал и о котором даже не знал, стали головы трех французских офицеров, посаженные на пики. Одного из них Арман знал лично. В редких встречах они пыльно надеялись выпить за здоровье друг друга в Париже. Люсьен Морель был потрясающе улыбчивым, ярким человеком, чья храбрость и острое как мешок дорогих специй чувство юмора стали почти фольклором местных частей. Вот только теперь Андре было трудно вспомнить об этом, все перечеркивал образ его головы, отделенной от тела и гниющей в котле пустыни, оставляя только жгучее желание отомстить, поймать османскую змею и казнить без суда, оставив свидетелем только жар солнца. Потому что Ибрагим аль -Сайяф уже однажды попадал в руки французов. Тогда его оставили жить, как диковинку и мощный символ местного успеха. Но аль-Сайяф сбежал. И стал еще злее и осторожнее.
Аль-Сайяф, Призрак Сайда… был здесь. Без коня, без людей. И он бежал.
И время соскользнуло.
Пульс стал зовом.
Мир — добычей.
Андре накренился в седле и Рафаль рванул вперед. Сабля в руке пела. Сердце било не в груди, а в горле. Призрак Сайда был близко. Он был почти мертв.
Аль-Сайяф исчез в безразличном чреве руин в надежде уйти от судьбы.
Колоннада, застывшая в оковах песка бросала чернильные тени, сменявшиеся рябью жгуче белого света. Рафаль нес Андре сквозь этот стробоскоп, повинуясь его руке и воле, несмотря на то, что сам был этим зрелищем практически ослеплен. Андре слепил не свет, жажда мести. Он словно ястреб, назначивший себе единственную цель среди пестроты и испуганного хлопанья крыльев, видел только спину “Мясника”. Его рука в крови и ведомая хищным порывом, крепко сжимала саблю, готовая нанести еще один удар наотмашь. Такой же прицельный, такой же молниеносный как и множество до него. Свет и тень, свет и тень, в которых были вырезаны призраки фигур на столпах, отсчитывали мгновение до кровавого ликования. Грохот копыт, бьющих то в показавшиеся плиты пола, то в глухую подушку пыли и песка, был гимном. Реальность дрожала пылью веков и темным, кровожадным предвкушением. Колоннада оборвалась бархатно влажным зевом огромного зала, когда Андре занес руку для удара и увидел в калейдоскопе золота и тьмы, в призраках фигур на стенах, три тени — живые и реальные. Он дернул повод на себя, прогремели, как один выстрелы. Рафаль взвился с душераздирающим лошадиным криком и рухнул набок. Андре упал в песок, его голова приземлилась в паре ладоней от огромного булыжника, испещренного символами. Ногу пронзила нарастающая боль, мгновения патокой растянулись в долгие секунды. Сабля сверкала блеклым клинком совсем рядом, будто верный пес. Хрипы коня заглушали все. Но Рафаль поднялся на ноги, широкий повод только сейчас выскользнул из тренированных пальцев. Стопа покинула стремя так, будто все шло по плану. Звякнула шпора о камень. По животу коня струилась кровь, бежала по шерсти, собиралась у подпруги и срывалась вниз, напаивая жадный песок. Он неверно и ошарашено побрел в сторону, спотыкаясь на дрожащих ногах. Мундштук блеснул в пене тусклым золотом, где-то впереди отчаянно уменьшалась тень человека, зажатая между двух вертикалей безразличных колоссов. Аль-Сайяф победил, если бегство можно считать победой.
Песок скрипел на зубах, пыль забилась в легкие. Андре втянул воздух, попытался встать, но грудь сказала “нет” под мундиром распуская тысячу игл резкой, парализующей боли. Офицер закашлялся, хватаясь потяжелевшей рукой за бок. Касание пальцев в перчатке и все стало липким. Он глянул вниз, будто сквозь дымку и мир опять разделился: на нарисованное небо над головой и не кровь, а очень много крови, он ощутил теплую влагу и как она струится между пальцев, которые ему становилось все сложнее сжать, пропитала киверное сукно мундира, как чернила письмо, которое никто уже не прочтет. Жар сменился волной стылого холода. Язык погряз в горько-соленом вкусе железа. На губах выступила розовая пена, смазывая пыль. Каждый вдох был на толику короче и короче. Он слышал, как его сердце грохочет в висках, как натужно бьется в груди, будто отбивает марш. В обратную сторону. Не в бой. Вниз. К проходу, скрывшемуся в густых тенях колонн, там где застывшими волнами лежал песок. Он тонул, прямо на песке, посреди сухого моря. Мир покрылся рябью, а нарисованные звезды над головой пыльные на страшном синем небе качались, как океан, опускались. Колонны с изображениями десятков людей и зверей, все сливалось в марево, во вьющейся на легком ветру полог, тонкий и почти прозрачный, но мешающий увидеть. За ним снова эта женщина. Черные вьющиеся волосы, смуглая кожа, обнаженные плечи, она улыбается, улыбается ему. Он никогда и нигде не видел таких женщин. Даже здесь. В темноте черных глаз сокрыто все очарование мира, лишенное кротости и стыдливости. Она улыбается ему и зовет. Кажется. Зовет. Он не может расслышать за всем этим…
Шумом выстрелов, стуком копыт, отдающихся громогласным эхом, разрывая зыбкую реальность. Шаги, звон шпор, сабель, голоса. Слова. Французская речь — он с трудом осознает эту мысль. Свои.
Она зовет его?
— Андре! Сокол!
Он хотел отозваться, сказать, что… что он здесь.
Он не сказал.
Мир вздрагивал мутной, расплывчатой рябью. Полог вздымался на ветру, приносившим сладкий, незнакомый запах.
Темнота. Или не совсем. Песок стал черным, как масляная глина, тени расползались, под ними в зыбком мраке частиц будто бы пепла, подвешанного навсегда в иллюзии пространства — ступени.
Каменные.
Вечные.
Вниз.
Впереди среди зыбкого марева мрака, который поднимался и окружал, как черная вода, грозясь залиться в легкие, из отсветов теней появился силуэт. В маске зверя. В маске ли?
Тишина обрушивалась нестерпимым водопадом, оглушающим звоном. Андре пытался нащупать на поясе нож, который когда-то забрал трофеем.
— Я умер, — хотел сказать он. Но не сказал. Потому что дышал.
Грубо. Прямо в грудь.
Кто-то колотил кулаком.
Рука втиснута в рану.
Нажим.
— Жив! Он жив! Скорее!
Его волокли — и он чувствовал это не спиной, а как через сон: за пояс, за плечо, через пыль, горячее, чем сама боль. Нога не двигалась. Все тело — обмякло. Голова моталась. Песок, кровь, дрожащий ритм колесницы, которой не было. Просто чья-то лошадь, кто-то из шассеров — матерящийся, хриплый.
Полог скрывал ее образ. Не давал рассмотреть. Но он видел ее так много раз. Так много. Он знал черты ее лица, изгибы ее горячего тела, вкус ее любви, ее голос. И все это было так далеко, обрывалось где-то на задворках сознания. Сейчас она была материальной. Почти здесь, почти с ним. Как ее зовут? Как его имя? Ведь он же Сокол.
Каждый толчок отдавался в боку, будто кто-то резал его изнутри, с каждой секундой глубже.
Пять километров до Луксора. Могли быть пятью годами. Пятью мирами. Он был на границе. Между "был" и "будет".
Что-то поднимает его, но не тело — память?… рука?… копыта или сандалии? Дрожь, как у осла, забредшего в храм.
Ребенок сидел в пыли. У ног его ползали скорпионы. Он хохотал, они сворачивались, ложились кольцами у него на ладонях. Ветви акации шелестели над ним, как молитвы. Их шептала Селкет, невидимая, но чувствовалась — как масло на ране.
— У меня есть войско, — говорил он, обращаясь к кому-то. — Оно жалит только тех, кто хочет меня убить.
Это все игры. Селкет. Имя как шелк. Как кинжал, спрятанный в ткани.
Где-то на границе звука — лязг металла, резкий запах пота и перегретого железа. Лошадь? Пыль? Кричит кто-то. Или зовет?
Он спит. Его глаза закрыты. Но на груди — змея. Свернулась кольцом, как браслет фараона. Он лежит в храме, а над ним стоят звезды. Не небо. Звезды.
Змея поднимает голову. Щека мальчика — смуглая. Сердце — громкое. Он проснется, если ты подойдешь слишком близко.
Уаджет, — шепчет кто-то. — Страж.
Кровь снова заливает легкое. Он не может вдохнуть, но и умереть — тоже не может. Время висит. Время разлагается.
Холодная ночь в пустыне. Старые усыпальницы. Это видят все. Здесь царит старая смерть, сухая, истлевшая, почти нестрашная. Вот только в песок укутывают новые и новые тела.
К звездам тянутся огромные врата. Больше жизни. Под стать смерти.
— Мне надо поговорить с тобой! — его слова громкие и крошечные растворяются в безмолвии ночи.
Андре задыхается. Его трясет.
Она улыбается. Волосы ее как виноград, руки — прохладные. Хатхор. Ее. Зовут. Хатхор. Он целует ее, и губы ее пахнут молоком и медом, но язык ее — как нож.
— Убей, — шепчет она. — Но стань светом.
Он ничего не понимает. Он просто хочет ее.
Зов. Его срывают. Песок уходит. Камень становится деревом. Потом — тканью. Реальность зыбкая и малая все реже и реже возникает между красно-черным забвением. Золото выжженых колонн и бесконечная синева неба, будто просящая дышать, взрезают мир, как хлесткая пощечина. Он видит небо и колонны, его тащат, реальность вокруг снова рассыпается вслед за временем звуками лагеря. Эхо его жизни едва ли кажется реальным.
Он старается смотреть. Бледно голубые глаза, как жаркое небо, ловят блики солнца в рыжих вркаплениях. Тени фигур вокруг перебивают предложение светила закрыть веки.
Но оно шепчет. Почти также как красавица Хатхор. Почти также убедительно.
Бежевый тенистый морок тента закрывает небо и его шепрот. Запах пороха сменяется острым запахом уксуса. На тканевых стенах пляшет свет и сюрреалистичные росчерки теней. Высокий собакоголовый силуэт расплетается в мозаику из полок, балок, неосторожно одернутого брезента и человека. Простой ответ для потерявшегося сознания.
“— Мне надо с тобой поговорить.”
Голоса кругом перебивают его невысказанную мысль. Он едва может различить слова и старается не смотреть на тени, дрожащие, будто ждущие момента, чтобы снова стать провалами вниз.